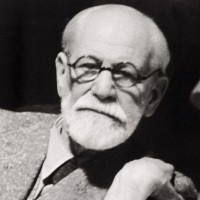Это не рецензия на беллетристическое произведение, неожиданно написанное выдающимся ученым, и тем более не попытка анализа научных идей в изобилии пронизывающих это произведение (хотя и в стиле совершенно не привычном для научной публикации). Это эссе, посвященное автору — великому физиологу, легенде научного сообщества, одному из основоположников современного учения о сне, и роман, написанный автором от первого лица, помогает лучше понять его личность , несмотря на весь камуфляж, создаваемый детективным сюжетом.
Один профессор когда-то сказал при обсуждении влияния идей И.П. Павлова на современную науку: «Величие ученого определяется количеством лет, на которые ему удалось задержать развитие науки». Разумеется, это парадокс — ведь великий ученый двигает науку вперед, и чем масштабнее его открытия и теории, тем шире этот научный прорыв. Но, как и во всяком хорошем парадоксе, в нем содержится элемент истины, оборотной стороны такого прорыва, имеющей психологические корни. Когда ученый обнаруживает ранее неизвестные явления и устанавливает связи между ними, он как правило стремится дать объяснение максимальному числу ранее непонятных фактов и создать новое целостное представление о предмете исследования. Он стремится включить в эту новую картину мира все, что не получало объяснения в рамках предыдущих представлений, разрешить максимальное число противоречий. В результате новая концепция становится нередко экспансивной и стремится не просто к объяснению, но буквально к поглощению всего, что так или иначе соприкасается с предметом изучения. А ведь великие открытия тем и велики, что совершаются не в узкой конкретной области, а в очень широкой сфере исследования. И если открытие в этой сфере действительно фундаментально и убедительно, оно вызывает энтузиазм у множества последователей, которые поддерживают претензию этой концепции стать истиной в последней инстанции. Так вместо того, чтобы открывать пути к следующим прорывам в понимании нашего сложного и многозначного мира во всех его противоречиях, глобальная новая концепция часто закрывает эти пути. В частности, в современной науке о мозге и психике такую функцию выполнили и идеи И.П. Павлова, и отчасти идеи З. Фрейда.
Разумеется, в таком повороте на 180 градусов автора новой концепции — человека творческого — казалось бы, трудно винить: он выполнил свой долг, и следующий шаг, новый прорыв — за другими. Павлов на вершине своего признания сам с раздражением говорил, что условные рефлексы не объясняют всего в человеческой психике, как это пытались делать его последователи. Но для последователей, принявших концепцию, очень комфортно вписаться в нее и защититься ею со всеми своими конкретными, пусть мизерными, дополнениями, и они часто пытаются подверстать под нее в том числе и такие новые факты, которые должны были бы побудить пересмотреть хотя бы некоторые аспекты глобальной теории. А автор такой теории обычно так вдохновлен ею ( без вдохновения принципиально новое не создашь), что от него трудно ожидать готовности отнестись к ней критически, взглянуть на нее «сверху» и тем самым вдохновить на это своих последователей и учеников. На это способна только очень масштабная личность, а масштаб личности не обязательно коррелирует с уровнем одаренности. Творческий человек нередко доминантен как личность и не принимает ничего, что могло бы поставить под сомнение исчерпывающий характер его идей. Таким был и великий З. Фрейд, безжалостно изгонявший учеников, проявлявших интеллектуальную самостоятельность, таких как Юнг и Адлер.
Исключения встречаются. Известна история с выступлением в Москве перед физиками Нильса Бора. Бор говорил по-английски, и хотя большая часть слушателей знала этот язык, для тех немногих, кто испытывал трудности с пониманием, Бора переводил профессор Лифшиц — ученик и соавтор великого Ландау. Бора спросили, как ему удалось создать такую замечательную научную школу. Бор ответил, Лифшиц перевел, в зале начался смех. Бор сказал: «Это произошло потому, что я никогда не боялся сказать моим ученикам, что я дурак». Лифшиц явно не поверил своим ушам и перевел: «Это произошло потому, что я никогда не боялся сказать моим ученикам, что они дураки». Тут поднялся Петр Капица и сказал: «Разница между ответом и переводом отражает разницу школы Бора и школы Ландау». Похоже, что и среди выдающихся физиков Бор был исключением.
Я попробую доказать, что таким же исключением является Мишель Жуве, который способен не находиться под впечатлением, производимым его идеями. И его роман «Похититель снов», как я его вижу, это рассказ об освобождении автора от сковывающих рамок собственной концепции генетического программирования в быстром сне, концепции оригинальной и вызвавшей всеобщий интерес. Автор устами своего героя — профессора Мишеля Жуве — объявляет эту концепцию ошибочной и отказывается от нее. Более того, автор-герой вообще отказывается от своего профессионального физиологического подхода к проблеме сна и сновидений и впадает в настоящую ересь с позиции академической науки — он теперь интересуется вещими предостерегающими снами ( существование которых научно не доказано) и верит в их истинность и в таинства души, проверяет и подтверждает событиями собственной жизни справедливость гороскопов и объявляет электрическую активность мозга не отражающей ничего сущностного. В романе его выступления с этими эпатирующими заявлениями перед научными аудиториями вызывают ощущение шока у слушателей. И думаю, для того, чтобы читатель книги тоже не был шокирован, автор вводит в повествование о своем пребывании на итальянском курорте и о своих свободных размышлениях там детективный сюжет. Он рассказывает фантастическую историю о том, как некие преследующие его шпионы с помощью похищенного у него же таинственного вещества и загадочных стимуляций мозга во время его глубокого сна после грязевых ванн меняют его как личность. Таким образом, его отказ от собственных выношенных и выстраданных теорий отражает это насильственное, искусственное изменение его личности. Я же позволю себе предположить, что этот детективный сюжет — попытка оправдать и объяснить не изменение личности автора, внезапно поднявшимся над собственной концепцией, а как раз полную, свободную и непосредственную реализацию его личности. Автору тесно в рамках условностей научного сообщества и он видит, насколько его собственная концепция, даже открывающая новые горизонты, все же беднее мира его живой души, мира, которую она призвана объяснить. Настоящий Жуве — это как раз Жуве способный переступить через все границы, пересмотреть собственные признанные достижения и безо всякого сожаления и ущерба начать сначала во имя свободы духа и вдохновенного ощущения вписанности в неисчерпаемый и многозначный мир. Моя уверенность в том, что в романе действует не подставной герой с его именем, а он сам, совершенно не изменившийся, подкрепляется и постоянно мелькающими в тексте, как бы брошенными вскользь, замечаниями и моими личными впечатлениями от Жуве.
Так, когда герой обдумывает очередную публикацию в традиционном ключе (которая так и не была завершена) он говорит себе, что нужно «постараться сделать статью скучноватой — как большинство статей в этом престижном журнале» — а ведь герой говорит себе это еще до всех фантастических воздействий на его мозг!
«Я не раз подтрунивал над собственной теорией генетического программирования».
«Я не могу больше читать собственные сочинения. Все это надо выбросить и сжечь»
«Напишу- ка я статью о взаимосвязи между искусством и сновидениями, особенно живописью» — и этому намерению веришь, когда читаешь, как ярко описывает он и свои сны, и природу, и вообще все, что видит.
Нет, все это говорит не условный герой детективного романа, подвергшийся изменению личности — это говорит сам автор, чья личность не менялась — живой, остроумный, свободный, думающий и чувствующий человек, получающий удовольствие от жизни во всех ее проявлениях — от еды, природы, общения со случайными людьми и хорошими знакомыми, от чувственных наслаждений, творчества.
Когда я читал эпизод романа, где главного героя — знаменитого профессора Жуве обкрадывают на улице, далеко от его отеля, и он превращается в нищего, я тут же подумал, что это метафора — ведь превращение в нищего освобождает от всего прошлого, от всех обязывающих и осточертевших условностей, и жизнь может начинаться как бы с чистого листа. И буквально через несколько абзацев я прочитал подтверждение автора: «Я превратился в бродягу, но стал свободен и счастлив». А облегчение, которое он испытывает, сбросив роскошные, но жмущие туфли — разве это не облегчение от навешанных регалий, облегчение, совершенно недоступное его амбициозным коллегам, о которых в другом месте он пишет «Конгресс ученых ослов, смешных и тщеславных».
Когда он пишет от лица героя романа «Я бы сидел там под солнцем и смотрел на вапореты, корабли и лодки», я вспоминаю, как Жуве в кулуарах одного из международных Конгрессов поделился со мной своей мечтой, что на пенсии будет сидеть в роще и слушать птиц, и это будет главным его занятием. И когда герой романа говорит : » Я смог раскрыть свою истинную натуру — исследователя, который сомневается, и верит в таинство души, в гороскопы, вещие сны и больше интересуется искусством, чем наукой» — я вижу Мишеля, каким я его помню, и не забываю при этом, что это тот же человек, который внес неоценимый вклад в современную биологическую науку о сне. Но его научные исследования — только часть его более глобального интереса к миру, и его свободная художественная фантазия, так увлекающая читателей его книг (в прекрасном переводе В.М. Ковальзона и В.В. Незговоровой) тоже часть этого целостного ощущения мира.
В 1974 г. я впервые увидел его на Конгрессе по сну в Ленинграде. Он был уже всемирно признанным ученым, изменившим представления о природе сна, и доклад его был очень интересным -и, возможно, главным на Конгрессе. А кончил он его словами, после которых мне стало ясно, что он масштабнее собственных открытий : «Мы все еще ничего не знаем о сне, но на более высоком уровне.»
И последнее, что я хочу сказать. Я очень признателен Мишелю Жуве за отзыв на мою концепцию поисковой активности. Он написан не так, как пишут формальные отзывы и рекомендации: за достаточно подробным изложением сути основных моих идей шло замечание, что они нашли подтверждение в экспериментах его лаборатории. А ведь моя концепция представляла другой подход к функции быстрого сна, не совпадавший с подходом самого Жуве. Когда в 1991г. он выступал в Хайфе в Технионе с описанием некоторых своих исследований, он сказал: » Мы тогда не могли дать им правильное объяснение. Объяснение пришло из Москвы.» Надо знать нравы академического мира, чтобы оценить уровень личности автора такого признания.